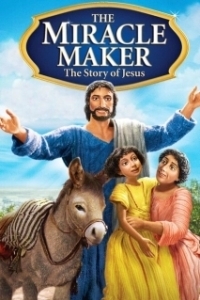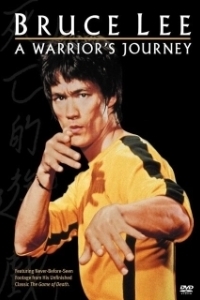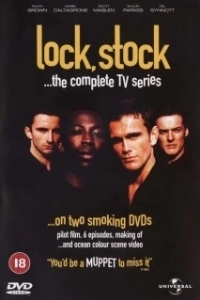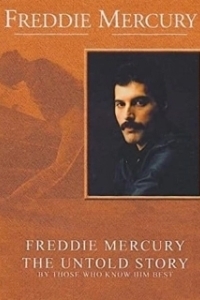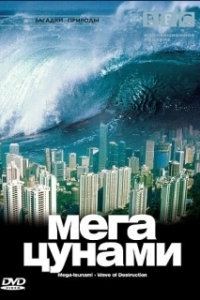В промозглом городке, где чахлые фонари мерцают как погасшие спички, 17-летняя Катя — механик с руками в шрамах от гаечных ключей — натыкается в заброшенном цеху на устройство, напоминающее гибрид патефона и электросчётчика. Его стеклянная панель мерцает цифрами, которых нет в её учебниках, а шестерёнки крутятся *против* времени. Город десятилетиями шептался о её отце, исчезнувшем в ту же ночь, когда сгорел архив, но теперь эти намёки обретают форму: в кармане отцовской куртки, пропитанной
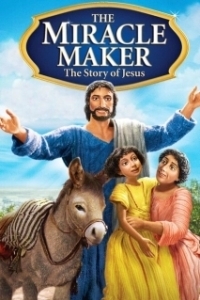
В глухом уральском посёлке, где телевизоры ловят только снежную пелену, семнадцатилетний Степан натыкается в заброшенной котельной на странный механизм — будто часы, склепанные из обломков танка. Стрелки крутятся вспять, а вместо тиканья — глухие удары, словно под землёй бьётся сердце. Местные, узнав о находке, внезапно вспоминают его отца — пропавшего инженера, чьё имя здесь десятилетие произносили шёпотом. Но чем чаще Степан ввинчивается в тайну, тем яростнее посёлок сопротивляется: дороги
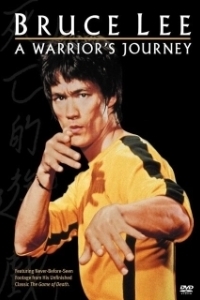
Гонконг, 1960-е. Над портом виснет туман, пропитанный солёным дыханием океана и гарью дизельных катеров. В узком переулке, где тени цепляются за стены, как старые сплетни, молодой Брюс отбивает удары в ритм барабанам из соседнего кумирни. Его кулаки — не оружие, а вопрос, брошенный миру: *можно ли стать больше, чем предписано кровью, школой, границами острова?* Он ломает шаблоны, как доски на тренировках: западный танец вплетает в кунг-фу, философию — в каждый взмах ноги. Но прошлое, как шипы
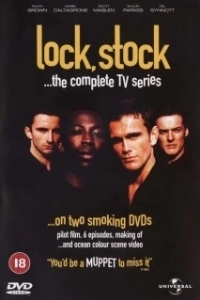
В дождь-продажных переулках Лондона конца 90-х, где неоновые вывески мигают, как подкрученные рулетки, Джек «Туз» Риддер стирает пальцы в карты, пытаясь оплатить долги отца-наркомана. Его подталкивает не жажда наживы, а конверт с детским фото — подброшенный таинственным недругом, чей голос скрипит, как несмазанный затвор. Здесь каждый шаг — пари против судьбы: даже бармен знает, как спустить безопасный сейф в Темзу, но молчит, пока виски не кончится. Задуманный налёт на подпольное казино

- Год выпуска: 2000
- Страна: Великобритания
- Жанр: Фильмы
- Продолжительность: 01:39
- Премьера (Мир): 2000-07-05
- Качество: DVDRip
Сибирь, конец 90-х. Алёша, пятнадцатилетний паренёк с облупившимся Walkman на поясе, находит в бабушкином сарае дневник, придавленный ржавой канистрой. Замшелые страницы пахнут бензином и полынью, а между ними — фотография исчезнувшего геолога и схема, где крестиком отмечена старая шахта за рекой. Деревня, словно сползающая в туман, молчит: даже мать Алёши стискивает губы, когда он спрашивает о карте. Но в школе шепчут, что шахта — «чёрный ящик» тех, кто пропал в лихие годы, а в её глубинах до

В приморском городке, где туман цепляется за ржавые крыши порта, бывший моряк Игнат получает письмо: конверт пуст, кроме ключа от маяка, брошенного двадцать лет назад после пожара. Его тянут туда не любопытство, а голос в трубке — хриплый шепот сестры, пропавшей в ту самую ночь. Но маяк теперь чужая территория: местные шепчутся о «долге молчания», а в барах внезапно глохнут разговоры при его появлении. Чем ближе Игнат к разгадке, тем явственнее следы чужой слежки: в пепельнице — окурки с её
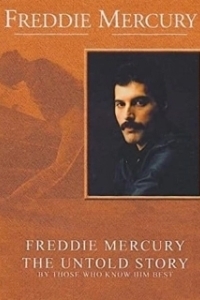
Лондон, 1974. Запах грима смешивается с дымом сцены, а Фредди, еще без усов и короны, прячет под пиджаком в горошек письмо от отца: *«Сын, пойми — музыка не прокормит»*. Но микрофон уже жжет ладонь, а в кармане — билет в один конец: сегодня он впервые выйдет к толпе не как Фарух Булсара, а как Меркьюри. Здесь нет громких взрывов — только тиканье магнитофона в убогой студии, где Queen записывают первый альбом. Фредди яростно стирает пленку, переписывая партии снова и снова, будто боится, что за

Лондон, 1976. Жара плавит асфальт возле подпольного клуба, где Джонни Роттен, скелет в рваном пиджаке, выплевывает слова, будто шрапнель. Его голос — скрежет разбитого стекла по железу. В кармане — газета с заголовком «Англия в агонии», но ему плевать: он и его банда из подвала магазина *SEX* уже шьют флаги из свастик и булавок, чтобы взорвать серое небо над головами сонных обывателей. Их движет не героизм, а ярость от тесных кухонь, где пахнет плесенью и поражением. Сид Вишес, худой как тень,
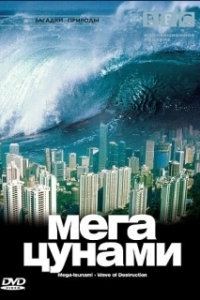
Аляска, 2000 год. Доктор Элеанора Восс, геолог с треснувшими от вечной мерзлоты сапогами, находит в пробах грунта Литуйи странные узоры — будто сама земля выкрикивает предупреждение на забытом языке. Ее дед исчез здесь полвека назад, оставив лишь потрепанный блокнот с пометкой *«700 метров»* и запирающийся взгляд в семейных фото. Тихое безумие работы в краю, где волны когда-то вздымались выше небоскребов, гонит ее не наука — личные призраки. Местные шепчут, что залив *«глотает любопытных»*, а

В разбитой деревне под Смоленском, 1942 год. Трое братьев — старший с холодным взглядом сапёра, средний с гитарой за спиной вместо винтовки, младший, ещё пахнущий школьным мелом — роют окопы под воем «катюш». Их свела война, но не это главное: в кармане у старшего хранится письмо, где мать умоляет *«вернуть хотя бы одного»*. Мир здесь рушится не от снарядов — от тихих предательств: сослуживец, прячущий немецкие шоколадки, командир, сжимающий в кулаке чужой жетон... Чем крепче братья держатся

В развалинах пригородного депо, где ржавые вагоны проросли бурьяном, вожак стаи — немецкая овчарка с шерстью, пропахшей гарью и сталью — находит под колесом тепловоза клык с чужим запахом. Не голод гонит её вглубь запретных тоннелей: родник, где пьёт стая, отравлен кровью. Закон пустыни гласит: *человек — смерть*. Но следы ведут к ним — двулапым, что прячутся за стенами с колючим светом. Чем ближе к правде, тем чаще в стае слышен рык раздора. Молодые кобели шепчут о предательстве, старики — о

В дождливой английской глуши, где туман цепляется за кирпичные трубы, чудаковатый изобретатель Уоллес и его пес Громит завтракают тостами, выстреливаемыми из механической жаровни. Их размеренная жизнь трещит, как перегретый паровой двигатель, когда соседи начинают терять овощи с грядок — не просто урожай, а гигантские, словно выращенные для великанов. Уоллес, вечный оптимист в подтяжках, конструирует ловушку из старых радиодеталей и прадедушкиных часов, но Громит, с его печальным взглядом и